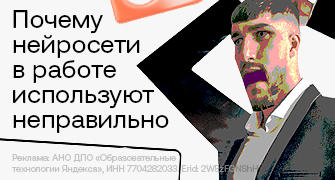«1837 год. Скрытая трансформация России»
Почему государство было заинтересовано в строительстве железной дороги
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора
Правление Николая I (1825–1855) некоторые считают периодом консервативного застоя: царь укреплял самодержавие и боролся с революционными идеями. Однако, по мнению историка Пола Верта, именно 1830-е годы сыграли ключевую роль в национальном строительстве России. А наиболее важные события, значимость которых порой не была очевидна современникам, произошли в 1837 году. В книге «1837 год. Скрытая трансформация России» («НЛО»), переведенной на русский язык Сергеем Карповым, он рассказывает, как эти события предвосхитили грядущие перемены общественно-политического устройства страны. Предлагаем вам ознакомиться с фрагментом о предпосылках строительства первой ветки железной дороги.
Решение строить
Россию XIX века, как правило, изображают аграрной страной. Это и правда, и заблуждение. Для многих жителей важное место занимали разного рода промышленность, торговля и ремесла. Даже хозяева крепостных отправляли своих подопечных не только в поля, но и на заводы, на фабрики. Да и власти не рвались к идеалу аграрной утопии. Напротив, Петербург осторожно развивал индустрию, торговлю и коммерцию.
Интерес к этим сферам деятельности можно видеть уже по маршруту путешествия наследника, описанного в главе 4. Как мы помним, на длительных остановках местные устраивали выставки собственного производства и ремесел, а наследник рассказывал об увиденном в письмах отцу. Указатель К. И. Арсеньева, написанный для наследника, ставил на первое место эти же вопросы. Так, город Шуя во Владимирской губернии восхвалялся как «один из величайших мануфактурных городов в целой империи», а село Иваново с его промышленной мощью, по мнению составителя, «уступает только столицам». Пренебрежение к другим городам тесно связано с отсутствием мануфактур и торговли. «Доселе Вятка остается неважным губернским городом, — говорилось в указателе для наследника, — она не имеет ни фабрик, ни заводов». В указателе для императрицы предполагалось, что не имеющий фабрик и заводов Нижнедевицк — «самый ничтожный из всех городов Воронежской губернии». Великий князь Александр проявлял значительный интерес к мануфактурам и транспорту, задавал множество вопросов, а иногда и сам участвовал в производстве. Готовность правительства строить железные дороги следует рассматривать в этом широком контексте.
В упрощенном виде история выглядит так. Русские предприниматели и механики Урала и Алтая уже производили паровые двигатели и «чугунные колесопроводы» для обслуживания фабрик и шахт, но полноценный разговор о железных дорогах в России зашел только в 1830-е. Принято считать, что его начала статья Николая Щеглова 1830 года о преимуществах рельсовой дороги с конной тягой. Через несколько лет, в августе 1834 года, в Россию по приглашению начальника штаба Корпуса горных инженеров К. В. Чевкина прибыл австрийский подданный Франц Антон фон Герстнер, чтобы изучать работу Уральских горных заводов. Ранее он строил богемскую конно-железную дорогу из Ческе-Будеёвице в Линц. Видя явную потребность в строительстве железных дорог в России, в начале января 1835 года он подал императору Николаю I соответствующую записку. Герстнер видел в будущем целую сеть железных дорог, которая бы начиналась с ветки между двумя столицами, а затем продлевалась от Москвы в Нижний Новгород и в дальнейшем — в Одессу или Таганрог на юге. Николай I, понимавший в технике, оценил предложение заезжего иностранца. Записка фон Герстнера стала поводом для обсуждения этого вопроса в особом, под председательством императора, комитете, и в результате Герстнеру было поручено для начала построить короткую ветку: 27 километров от столицы империи в пригород (и дворцовый комплекс) Царское Село, оттуда — в близлежащий Павловск. В марте 1836 года правительство одобрило создание частной акционерной компании для финансирования работ, а в мае 1836-го началось строительство. Церемониальное открытие состоялось 20 октября 1837 года.
Чтобы проект появился на свет, в середине 1830-х совпали несколько факторов. Прежде всего — желание императора, который намеревался стимулировать местную экономику, вдохновляясь Адамом Смитом. Смит полагал, что аграрная стадия экономического развития неизбежно уступит стадии коммерческого общества, которое характеризуется торговлей, промышленностью и рыночной экономикой. Николай I, хотя и с оговорками, оставаясь на позициях самодержавного консерватизма, принимал смитовскую концепцию. У Смита в 1760-х годах учились два русских студента, и после возвращения на родину они распространяли его идеи. Так, трехтомное сочинение Смита «Богатство наций» («Исследование о природе и причинах богатства народов») было издано на русском языке в 1802–1806 годах. Сыграла свою роль и поездка Николая I в Британию в 1816–1817 годах. В его маршруте важное место отводилось промышленным городам вроде Манчестера и Бирмингема, и практически каждый день великий князь посвящал несколько часов изучению работы фабрик, а также каналам и железным дорогам. К 1830-м годам царские чиновники отлично знали теорию Смита и учреждали институты (в том числе библиотеки, статистические комитеты и губернские газеты, о которых рассказано в главе 5) для развития в указанном им направлении. Правда, не все поддерживали такое начинание. Например, просвещенные помещики были скорее за аграрную экономику, чем за индустриализацию. Но даже они в какой-то степени поддерживали теорию Смита и в будущем видели Россию страной инноваций. «Индустриализации как таковой противостояли немногие, — пишет историк Уильям Блэквелл о настроении тогдашних умов, — спорили из-за ее методов и темпов». Исключением был, похоже, только пессимистично настроенный министр финансов Канкрин, который к любым переменам относился скептически, в целом российская элита тоже видела необходимость во введении в стране инноваций. Сьюзан Смит-Питер по этому поводу замечает:
Россия — одна из первых стран, которая осознала, что отстает и не успевает за европейскими тенденциями, а также одна из первых, которая предприняла меры для перехода к новой стадии общества — стадии торговли.
Железная дорога могла сыграть критическую роль в таком переходе — к тому же она могла сыграть важнейшую роль и в развитии сельского хозяйства.
Еще важнее, пожалуй, то, что проблема коммуникаций в России стояла очень остро. Похоже, что первые современные дороги страны ругают зря — по ним действительно можно было сравнительно быстро передвигаться, особенно к началу 1820-х годов, когда появились дилижансы. Телеги летом и сани зимой быстро доставляли грузы высокой ценности, но небольшого объема. Существовала широкая сеть водных каналов, и немалая ее новая артерия была открыта в 1810–1811 годах, связав Петербург с глубинной территорией, что стало большим достижением, в частности, для снабжения столицы. Леди Лондондерри называла дорогу между столицами (завершенную в 1834 году) «замечательной работой» — собственно, «лучшей дорогой, что я когда-либо видела». Даже маркиз де Кюстин, который жаловался на все российские дороги и на их разрушительное воздействие на его экипаж, признавал систему внутренней навигации в стране «одним из чудес цивилизованного мира». Тем не менее проблема коммуникаций не стала от этого менее острой. Как рост петербургского населения, так и растущая торговля сырьем с другими странами перегружали систему каналов. Грузы перемещались медленно (по Волге — обычно не более 10 километров в день), на больших необорудованных баржах (в 1832 году во всей стране насчитывалось только 17 пароходов); товары из Астрахани могли добираться до Петербурга год, а то и дольше. Вверх по рекам их поднимали бурлаки — на одной только Волге в 1815 году их работало до 400 тысяч: они либо тянули суда вдоль бечевой, либо верповали с борта. В засушливые сезоны реки мелели; в засушливое лето Волга часто становилась несудоходной. Суровые зимы лишали страну водного транспорта на месяцы; на севере — вплоть до шести-семи месяцев каждый год. А дороги становились непроходимыми во время оттепели и осенних дождей. Их часто приходилось чинить, как и множество мостов.
Подготовка к путешествию наследника в 1837-м (см. главу 4) сделала очевидными самые разные проблемы — половодья смывали мосты, из-за быстрого течения на поднявшихся реках становились невозможными паромные переправы, глубокий снег затруднял проезд даже в мае; на длительных участках пути по чащам и болотам не было никакого жилья и так далее, — и в связи с этим приходилось менять его маршрут. В некоторых частях страны царило бездорожье, попасть туда можно было только зимой, на санях. Короче говоря, российская транспортная система работала, но оставляла желать лучшего. Как объявил после путешествий по России в 1840-х годах немец Август фон Гакстгаузен: «Без системы путей сообщения Россия — колоссальный великан, связанный по рукам и ногам».
Подробнее читайте:
Верт, П. 1837 год. Скрытая трансформация России / Пол Верт; пер. с англ. Сергея Карпова.— М.: Новое литературное обозрение, 2025. — 368 с.: ил. (Серия «Что такое Россия»).